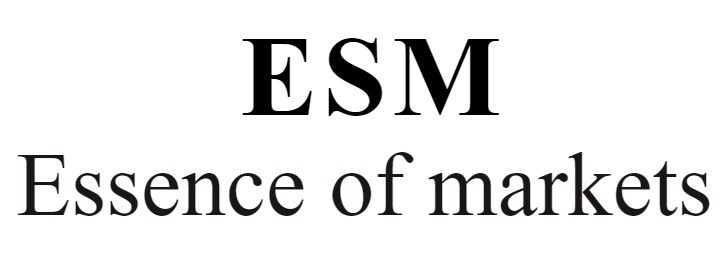Минфин предложил внести в закон о контрактной системе (№ 44-фз) поправки, которые ужесточают нормы деофшоризации в сфере закупок. Ведомство считает необходимым исключить из числа потенциальных закупщиков фирмы, учредителями или выгодоприобретателями которых являются офшорные компании.
Участие в закупках таких юридических лиц «содержит риски сокрытия доходов российских организаций, принадлежащих офшорным компаниям, «отмывания» денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В ней же Минфин отмечает, что поправки разработаны в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг.
«Предложенные Минфином поправки являются продолжением работы законодателя над деофшоризацией российской экономики, — рассказывает юрист практики антимонопольного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь Гаврилов. — В области госзакупок она началась еще в 2015 г., когда в закон о контрактной системе был введен запрет на участие компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Теперь, если поправки будут приняты, под ограничения попадут и участники, которые зарегистрированы вне офшоров, но имеют «офшорные корни».
Введенный в 2015 г. запрет на участие в госзакупках офшорных организаций на их работу не повлиял, отмечает руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук. Они начали использовать «дочек», так что реальное их участие в закупках снизилось несущественно. Теперь же, по ее мнению, офшорные компании вместо «дочек» будут представлять для участия в закупках «внучек». Поэтому эффективность предлагаемой поправки может оказаться невысокой.
«Хотя не исключена корректировка предложений в этой части путем расширения запрета на косвенное участие офшорных компаний в организациях», — замечает Яремчук.
Кроме того, акционерные общества не раскрывают в свободном доступе полный перечень своих акционеров. «Это можно проверить, только запросив информацию из соответствующего реестра, — говорит Яремчук. — Поэтому проверить сведения об отсутствии офшорных компаний в числе учредителей или бенефициаров участника закупок будет проблематично, что сделает невозможным применение -поправки».
Эффективность реализации предлагаемой меры будет напрямую зависеть от доступности информации о структуре владения участников закупок и их выгодоприобретателях, соглашается Гаврилов. Проверка соответствия участника установленным требованиям в этом случае ложится целиком и полностью на плечи заказчиков, так как участники будут только декларировать отсутствие в их корпоративной структуре офшорных компаний. «Представляется, что такое требование может сказаться на количестве участников закупок — в первую очередь от среднего и крупного бизнеса, которые чаще остальных используют офшорные схемы, — полагает Гаврилов. — В меньшей степени это затронет субъекты малого предпринимательства».
Нельзя исключить появления практики борьбы за контракт путем оспаривания итогов закупок на том основании, что к участию был допущен офшорный участник, опасается эксперт. По его мнению, жалобщики будут стараться доказать наличие офшорных связей у победителя и тем самым оспорить его участие в закупке.
«Если под эффективностью считать ограничение конкуренции, то эта мера будет эффективной, — отмечает, в свою очередь, управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner Андрей Гольцблат. — С другой стороны, это, конечно, приведет к участию в закупках российских компаний, косвенно аффилированных с офшорами. Получается, что государство, с одной стороны, не против офшорных компаний и даже ввело специальный льготный налог для них (5 млн руб.), а с другой — заявляет, что они отмывают деньги и не платят налоги. Хотя надо отметить, что все больше российских предпринимателей предпочитают вести бизнес через российские структуры».